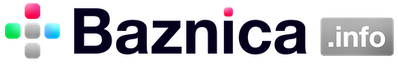“XXI век будет веком гуманитарных наук, либо его не будет вовсе, — предупреждал нас антрополог Клод Леви-Стросс. Из нашего времени это предупреждение видится пророческим. Век до сих пор под вопросом, потому что под вопросом человек, а науки – тем более.
Ведь ясно, что вопрос был вовсе не в науках, а в науках гуманитарных, т.е. в человеке, мысль о котором они должны хранить и святить. И этот самый человек оказался наукам не под силу, поэтому они им надорвались, а затем от него отказались, и занялись более частными вещами, «объектами» и «предметами». Может это и к лучшему, потому что раз человек как цельность гуманитарным наукам не дается, а если дается – по частям, то не стоит ли оставить его в целости и сохранности наукам иным? Вот сразу здесь я и хочу сделать переход от гуманитарных наук к теме гуманизма в богословии, и перевести человека отсюда – туда. На мой взгляд, наибольшие прорывы и прозрения относительно человека дались другим наукам, не гуманитарным, а богословским. И случилось это в прошлом веке.
Почему-то мне кажется, что мы слишком много грешим относительно нашего прошлого, оттого будущее видится хуже и хуже. Скажу точнее: мы грешим относительно даров и откровений, данных и явленных нам в прошлом. Мы просто не слушаем их, не читаем, не видим. Вот и Леви-Стросс переложил ответственность за человека на век грядущий, не считаясь с тем, что было открыто и доступно в его время, или не считая это достаточным.
А что если понять его так: XXI век будет веком возвращения гуманитарных наук к неким первичным и цельным истинам, веком прозрения относительно тех оснований, на которых гуманитарные и другие науки единственно возможны, «либо его не будет вовсе»? Что если XXI век должен обратиться и утвердиться в уже известном? Что если и сам человек должен вместе с науками, по словам Роберта Фроста, «не измениться, лишь в прежней вере крепче утвердиться» («К себе»)?
Ведь если все так серьезно, что мы теряем не только гуманитарные науки, но и будущее, и самого человека с ним, то речь должна идти не только о научных, но о неких донаучных основаниях, т.е. о первооснованиях.
Для христианина такие первоосновы имеют характер богословский. Богословие человека может быть основанием для наук о человеке. Но что лежит в основе богословия человека, какие изначальные интуиции, первичные истины, неоспоримые очевидности? Не только науки не могут вместить человека и отказываются от него (а тем самым и от себя, своего призвания), так что чем больше научности, тем меньше претензий. Подобным образом «научное», «конфессиональное» и любое «каноническое» богословие тоже отказываются от человека.
Богословы охотнее говорят о Боге, чем о человеке, или о том, что Бог думает о человеке. Далеко не каждому из них дается дерзновение богословствовать о человеке с любовью и верой, и формулировать те неудобно-позитивные истины о нем, которые крайне сложно включить в систематическое богословие, но без которых нельзя и обойтись.
XX век подарил нам немало богословов-гуманистов, которые выходили за рамки ортодоксии и запутали свои следы. Но я хочу обратиться к наследию двух вполне ортодоксальных мыслителей – православного митрополита Антония Сурожского и католического священника, профессора Генри Нувена. Евангельская простота их идей близка и мила сердцу каждого, но она дополняется сильным гуманистическим вызовом. Это сочетание выделяет их и сближает. Это сочетание само по себе является важным откровением, после которого и в свете которого «богословие человека» видится иначе, позитивно, настолько позитивно, что вспоминая об этих «двух светильниках» Божиих (Откр. 11), нет больше никаких причин сомневаться в том, что у человека есть будущность и надежда.
Не пересказывая их идей, поскольку они довольно широко известны, представляется важным выделить те из них, которые подводят некий богословский итог спорам о гуманизме; те, после которых сам способ богословствования о человеке должен измениться.
«Бог верит в человека». Эти знаменитые слова митрополита Антония стали его основным посланием, располагающим сердца и умы людей нецерковных и смущающим людей церковных. Он говорит не о духовном или религиозном человеке, но о человеке как таковом: «Чтобы быть человеком, просто человеком, но в настоящем смысле слова, мы должны стать чем-то превосходящим всякое наше представление; а такими мы можем стать только даром Божиим, а вовсе не собственными ухищрениями. И поэтому нам нужно излияние Святого Духа, дар Духа, помазание Духом – просто чтобы осуществить свое человеческое призвание. Я говорю сейчас не о священстве, не о монашестве, ни о чем формальном, а просто чтобы быть человеком» [2, 92]. Такая постановка вопроса о человеке является действительно фундаментальной.
Тезис «Бог верит в человека» появляется как очевидный ответ на простой жизненный вопрос: вот человек верит в Бога, а что же Сам Бог, в кого Он верит? Если послушать евангельский совет «имейте веру Божию» (Марка 11:23) то мы должны верить не только в Бога, но и в то, во что Бог верит.
В своей проповеди “Вера Божия в человека” митрополит Антоний связывает веру Божью с верой человеческой, Его инициативу с нашей ответственностью: “Он является для всего мироздания Женихом, и каждая человеческая душа является как бы невестой. И Он свободно вызывает к бытию каждого из нас, как бы веря в то, что мы не обманем Его ожиданий”, поэтому “Каждый из нас является освященной иконой — раненой, обезображенной, но каждый остается и святыней, иобразом Божиим. И задача нашей жизни — вглядеться во все то, что в этой иконе уцелело, и эту икону обновить, как бы реставрировать”; именно такая вера Бога в человека, внимание к Божьему образу в человеке может быть единственно достойным и действенным миссионерским мотивом: “Ко мне приходят много людей, и большей частью проблема человека не в том, что он не верит в Бога, а в том, что он не верит в себя. И если только удается ему передать то, что я, полуслепой, невосприимчивый, тупой, недуховный, могу, несмотря на все это, видеть в нем образ Божий, что я могу веровать в него, то это может играть решающую роль. Только скажи ему о вере — не о вере в Бога, а о вере в человека, он сможет дрогнуть, он может ожить” [2, 136-153].
Разумеется, Божья вера в нас не лишена риска, поскольку сталкивается с человеческой свободой, она не имеет гарантий или более надежных оснований кроме себя самой, вне себя самой. Это не план, вписывающий нас в какие-то изначально предусмотренные схемы; это драгоценнейший дар, оставляющий нас свободным; это протянутая рука и открытое сердце.
Иными словами, Бог – больший гуманист из нас, и это нас обязывает: «Если Он в нас верит, если Он такой ценой готов верить в нас, то мы должны вырасти в меру Его веры в нас”, “мы обязаны верить в себя и верить друг во друга” [2, 148-149].
При всей своей рискованности, вере в человека есть на что опереться – в самом человеке есть божественное, заложенное при сотворении и питаемое Духом. Поэтому обращение к Богу должно начинаться с обращения к человеку, к божественному в человеке: «Живой человек может на первый взгляд показаться не таким прекрасным, но окружающие должны (подобно тем, кто почитает святые, освященные Церковью иконы), увидеть в нем сияющее присутствие Духа Святого, Бога, открывающего Себя в смиренном виде человеческого существа [1, 88].
И здесь нечто большее, чем этические обязанности по отношению к другому. Мы может увидеть Бога и в себе, когда «Нас охватывает созерцательное безмолвие перед лицом величия Божия и нашей собственной красоты. И нет пути обнаружить, Кто есть Бог и что есть Бог, если мы не обнаружим святость и красоту в себе самих» [1, 293].
Все это гораздо глубже наших чувств и пониманий, здесь любящая вера Божья становится основанием всего. Можно сказать так: Бог верит в меня, я любим Им, следовательно я существую во всей полноте бытия. Как говорит митрополит Антоний, «Каждый из нас любим, и поэтому каждый из нас спасен, потому что любовь Божия сильнее сильнее смерти, крепче греха, крепче зла» [1, 71]. Основания мира и человека – это предмет веры, и вера Божья закладывает такую онтологию, в которой мы можем верить, и лишь затем знать. Прочность этого основания такова, что мы можем быть уверенными в любви Божьей и благости мира, в Божьем прощении и принятии. Здесь совершается переход от веры к любви, восстанавливается их связь.
Если Сурожского больше интересует онтология веры, т.е предоснования и предписания относительно реальности, то Нувена – экзистенции любви, т.е. жизненные ситуации, в которых человек открывается Божьей любви и преображается ею. Если в первом случае закладывается возможность жизни по вере, то во втором жизнь проживается в любви, вера сбывается, воплощается; реальность расцветает, раскрашивается, освящается, потому что именно «Благословение создает реальность, которую обещает [5, 40].
«Быть возлюбленным» — в этом, по убеждению Генри Нувена, суть Божьего обращения к человеку, и основа основ для христианского свидетельства. «Быть Возлюбленным – вот глубочайшая истина нашего существования» [5, 20], — это его уверенный вывод из многолетнего опыта личных поисков, служения ближним и жизни в общине. Как и у Антония Сурожского, здесь речь идет о фундаментальном уровне: «Слова «Ты – Мой возлюбленный» раскрывают самую глубокую правду обо всех людях независимо от того, принадлежат ли они к какой-либо религиозной традиции или нет» [5, 18].
Если Бог любит нас безотносительно к нашему положению, то «Самое большое искушение в нашей жизни – не успех, популярность или власть, но неприятие себя. Неприятие себя – самый большой враг духовной жизни, потому что оно противоречит голосу, идущему свыше, называющему нас «Возлюбленными» [5, 19-20].
Для Нувена эти истины виделись вовсе не абстрактными и однобоко духовными: «Это влечет за собой долгий и болезненный процесс вхождения в истину или, скорее, воплощения ее. Необходимо стать Возлюбленным в будничной жизни, постепенно преодолевая пропасть между моим призванием и множеством конкретных моментов повседневности» [5, 26]. В конце концов, истины о вере и любви ставят вопрос о примирении с реальностью, или о ее примирении и преображении: «Может быть, передо мной стоит вызов так довериться любви Божьей, чтобы больше не бояться вступить в секулярный мир и говорить там о вере, надежде и любви. Может быть, место, где возможно преодолеть этот разрыв, находится внутри меня. Возможно, разделение между секулярным и священным может быть преодолено, когда и то, и другое распознаны как стороны жизни опыта каждого человека» [5, 87].
Нувен уверен, что подлинная реальность открывается взгляду мистика и молитвенника: «Для того, чтобы жить, утверждаясь в познании Божьей первоначальной любви, а не руководствуясь желанием быть нужным, необходимо быть мистиками. Созерцательная молитва укрепляет в нас сознание того, что мы уже свободны, что мы уже нашли место для жилья и уже принадлежим Богу, хотя все и вся вокруг убеждает в обратном» [3, 32]. В обратном убеждает и историческое христианство, «Долгая мучительная история Церкви есть история людей, вновь и вновь испытывающих искушение предпочесть власть и руководство любви, кресту и послушанию» [3, 59].
Нувен избрал свой путь в христианстве, от структур к человеку. И этот путь предполагает погружение в правду о человеке – во всей ее противоречивости. «Мы призваны честно и мужественно спуститься в самые глубины своего существа, чтобы выйти навстречу собраться и наполнить сердце неослабевающей заботой о них. И прежде всего, мы призваны выйти навстречу Богу в молитве, которая постепенно становится подлинным голосом нашего сердца» [6, ix].
Выйти на встречу Богу, другим и себе – только начало длительного и сложного пути, где есть спуски и подъемы, пропасти и вершины, темные и светлые моменты, поэтому «Духовная жизнь есть не что иное, как неустанное движение от одного полюса к другому: от одиночества к уединению, от враждебности к радушию, от иллюзий к подлинной молитве. Получается, что писать о духовной жизни – все равно, что печатать снимки с негативов… именно темный лес побуждает нас вспомнить об открытых просторах» [6, 2-3]. Все это нужно пройти, пережить, вместить, осмыслить как часть необходимого духовного опыта, потому что «Духовное поприще не терпит окольных путей. Обходя стороной собственное одиночество, враждебность или владеющие нами иллюзии, мы никогда не придем к уединению сердца, радушию и сокровенному молитвенному предстоянию перед Богом… Духовная жизнь в первую очередь подразумевает осознание своей полярности и внутреннего напряжения» [6, 3-4].
Пути Нувена ведут в глубину, тишину, одиночество. Он пишет о внутренних мирах как о более реальных, чем социальные отношения или материальные вещи. Хотя материальное и духовное переплетаются, поэтому «нужно привести свое тело домой», нужно бывать в своей «внутренней горнице», видеть «глазами любви», слышать «внутренний голос» [4]. Все открывается нам лишь тогда, когда мы открываемся Божьей любви. Здесь мистика и этика, экзистенциальное и социальное, повседневное и богословское принадлежат и служат друг другу в любви.
Уверуют ли богословы в человека?
Христианский гуманизм после явленного и сказанного Сурожским и Нувеном неизбежно должен стать богословским, т.е. богословски непротиворечивым и богословски вдохновляемым. Он должен питаться и направляться богословием, но он же должен пропитать богословие, или, говоря евангельским языком, «заквасить» его своими интуициями, настроениями, откровениями. Причем речь идет не только о богословии академическом, но и о богословии церковном и даже народном. Подобные идеи выражались и ранее (чего стоит одно название книги Бальтазара — «Достойна веры лишь любовь»), но, как правило, адресовались узкой, книжной, интеллектуальной аудитории. Сурожский сделал эту тему основной темой своих проповедей, а Нувен «разжевал» ее в популярных книжках. Оба обратились к богословию человека не в порядке гипотез, но в порядке исповедования и провозглашения, проповеди и миссии.
Если Бог верит в человека и называет его «возлюбленным», то что это меняет или должно менять в богословии? Если это главное, то как согласовать с этим главным целую систему второстепенного? Оба наших автора – и митрополит Антоний, и священник-профессор Генри Нувен, — были и остаются очень популярными среди самых разных конфессий, при этом для своих конфессиональных структур и соответствующих им официальных богословий были и есть крайне неудобными, настолько неудобными, что за ними закрепились ярлыки «либералов», «гуманистов» «проповедников религиозного индифферентизма», «экуменистов».
Кажется, что в своем святом дерзновении Антоний Сурожский и Генри Нувен вышли за пределы церковно-богословской системы. В самом деле, если человек – «икона», если Бога можно познать «через человека», если человек спасен уже «потому что Бог его любит», то зачем еще что-то нужно (Церковь, догматы, литургия, благочестие…)?
Однако все станет на свои места, если мы посмотрим на те же идеи как на первоначала, аксиомы богословия. Они не заменяют и не отменяют всего другого, но все с них начинается. А без них не начинается, или начинается неправильно. В самом деле, если Бог не верит в человека, то как мы можем верить в Бога? Если мы не «возлюбленные», то как мы можем стать и быть, открыться и откликнуться?
Христианский гуманизм после Сурожского и Нувена обрел популярный, ортодоксальный и фундаментальный характер. Первое означает беспрецедентный охват и влияние; второе – «прописку» в «большой» церковной и богословской традиции; последнее означает, что он имеет значение не для религиозных людей, а для человека как такового, а значит – и для наук, которые им занимаются, и для картины мира, в которой они сами возможны.
Но здесь остается вопрос к богословам. Уверуют ли богословы в человека? Можно спросить иначе: уверуют ли богословы в Бога, который верит в человека? Если уверуют – не будет ли это величайшим чудом нашего времени и лучшим свидетельством миру людей и наук? Если не уверуют – то кто и где будет верить и хранить эту веру?
Закончу очень личным. Я прочитал Библию в десять лет. И один из наиболее поразительных стихов я встретил в Евангелии от Иоанна: «И уверовали в Него ученики Его» (Иоан. 2:11). Так закончилось чудо в Кане Галилейской – люди отпраздновали, выпили, порадовались, поблагодарили, но о вере даже не подумали. А вот ученики задумались – Кто же это, что это значит, что за сила, что за личность? Еще тогда, в детстве, я подумал, что все эти чудеса были нужны тем, кто уже имел веру в себе, кто уже был его учеником – тайным или явным. Это было для них. Если бы ученики не поверили тогда, они не ходили бы за Ним дальше, они не совершили бы потом многих чудес и не отдали всю свою жизнь на служение Ему и людям.
Сейчас я задаюсь вопросом, уверуем ли в Него мы, «ученики Его»? Уверуем ли мы в Него как в Того, Который верит в нас и любит нас, и потому достоин нашей веры и любви? Ведь мы сможем верить только в Того, Кто Сам поверил и полюбил нас, «когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Ведь только тогда, когда от Его веры уверуем и мы, «ученики Его», только тогда, не раньше сможет уверовать и весь мир – от Иерусалима до края земли, от римского сотника до эфиопского евнуха, от протестантского либерала до католика-паписта, от православного ортодокса до православного атеиста.
Михаил Черенков
Литература
1. Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Весна духовная (проповеди). – К.: Пролог, 2008. – 296 с.
2. Митрополит Антоний Сурожский (Блум). Пути христианской жизни. Беседы. – М., 2011. – 224 c.
3. Ноуэн Г. Во имя Иисуса. Размышления о христианском руководстве. – СПб.: Вера и Святость, Библия для всех, 2010. – 80 с.
4. Нувен Г. Внутренний голос любви. Путь от отчаяния к свободе. – М.: ББИ, 2012. – 102 с.
5. Нувен Г. Жизнь возлюбленного. Духовная жизнь в секулярном мире. – М.: ББИ, 2004. – 88 с.
6. Нувен Г. Постижение. Три ступени духовной жизни. – М.: ББИ, 2012. – 164 с.