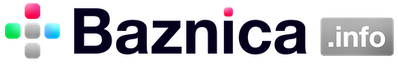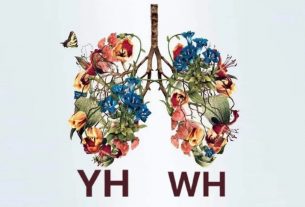Каждая эпоха и любое общество порождают своих лидеров. Лидер – это универсальный феномен человечества, социальное существо. Но существуют разные типы лидерства. Очевидно, мы должны ососзнавать фундаментальную разницу, например, между Александром Великим и современным американским президентом, или между святым Бенедиктом и эмоциональным евангелистским проповедником. Я бы предложил схему, в которой духовные лидеры делятся на два типа: Герой и Отец. Я рассматриваю Александра и Св.Бенедикта как фигуры героические, а большинство президентов и проповедников – как отеческие. Эта схема, как вы увидите, не основывается на идеях или методах, применяемых лидерами, но скорее на сфере их видения – того, как они видели человеческую природу и свою собственную эпоху – а также на длительных последствиях, которые их жизнь и деятельность оказала на грядущие поколения людей.
Хочу несколько расширить эту схему. Герой, согласно конценпции Юнга, является архетипом, который мы можем обнаружить во множестве мифов и сказаний по всему миру: герой покидает свою семью и друзей, вступая на путь приключения, будь то борьба с чудовищем или освобождение невинной жертвы злых сил. Когда же он достигает успеха в своей миссии, герой получает вознаграждение, каковым в сказках обычно бывает счастливый брак; и тут, как многие подумают, история заканчивается. В наших современных телевизионных и кинематографических интерпретациях вокруг такового архетипа все действительно заканчивается в этой точке. Но как часто у нас возникает чувство незавершенности? В архаичных мифах мы встречаем полное выражение символа героя, когда при выполнении заданий первой половины своей жизни он гибнет, жертвуя собой, подобно Зигфриду или египетскому Озирису. Но затем герой воскресает. Однако возвращается он уже не в обычную «земную» жизнь, как прежде, а достигает царствия «не от мира сего». Как об этом написал один психолог: «Возможно, смерть героя обозначает переломный момент в жизни, когда эго отрекается от власти и признает свою зависимость от чего–то или кого–то большего, чем оно само» (Энтони Сторр, «Юнг»).
Герой в своей жизни, а часто также и в смерти, способен вести окружающих его людей, поддерживая их своими великодушными воззрениями, храбростью и личным примером. Он открывает горизонты. Он поддерживает инициативы. Он развивает творческий подход. Он зовет к приключению: к приключению, которое он пережил сам, возможно, ценой собственной жизни, и результаты которого он хочет разделить с другими. И это приключение не лишено опасностей – но не лишено и наград. Это приключение – не просто решение одного человека, а скорее реализация призвания. Другой же тип лидера – отец – часто неверно интерпретируется своими последователями, как герой, несмотря на то, что истинные герои никогда не поощряют свой культ. Лидер–отец стремится защитить там, где герой исследует и идет на риск; он думает об обществе, указывает ему безопасные пути. Отец уже знает «достаточно», возможно даже знает «все», тогда как герой говорит: «Мы должны узнать больше. Приключение только начинается». Отец отстаивает безопасность и движется по уже установленным рельсам традиции.
Хорошей иллюстрацией этого подхода может стать история антрополога, занимавшегося полевыми исследованиями в Кении в сороковые годы. Он исследовал одно конкретное племя и был крайне удивлен, когда туземцы сказали ему, что у них нет снов. Позже он понял, что они просто не придавали значения своим снам. Это показалось вдвойне странным, когда он узнал, что у племени были особые шаманы–врачеватели, которые занимались сновидением для всего племени, предсказывая таким образом будущее, интерпретируя символы. Но когда он пришел к этим врачевателям, то оказалось, что и они также прекратили «сновидеть». «Но как давно вы перестали видеть сны?» – спросил он. И они ответили ему, что это произошло с приходом окружного офицера Британской Колониальной Службы. Белый человек заместил собой отеческую фигуру, каковой ранее являлся врачеватель, потому что теперь именно он стал тем, кто принимает все решения, заботится об их будущем и защищает их.
Как бы то ни было, нам нужно быть осторожными в восприятии героического лидера исключительно как чего–то сугубо мифического или архаично–примитивного. На самом деле он является плодом именно развитого сознания: например, сознания античных греков, а не предвоенной Германии. Именно варварское (а не цивилизованное) сознание в человеке ищет комфортной защиты в отеческой фигуре.
В нашем случае есть парадокс – св.Бенедикт является Отцом, который одновременно и Герой, героический лидер, обладающий цивилизационным и развитым сознанием. Его лидерство воплотилось в Правиле жизни, которое он написал для людей, выбравших приключение, пусть даже и весьма отличное от тех развлечений и удовольствий, привлекающих большинство людей. Правило Св.Бенедикта не является неким кричащим манифестом: первое его слово – «слушай», а заканчивается оно обещанием, что «ты сможешь, ты достигнешь» (буквально: «с Божьей помощью ты сможешь этого достичь», глава 73). Это кажется довольно скромной оценкой его собственной роли, как лидера, и я думаю, что эта скромность подлинная. Большинство гениальных людей осознают, что их работа переживет их, даже если они не получат признания при жизни, и они творят словно под наблюдением потомков. Однако Правило Св.Бенедикта показывает абсолютную сосредоточенность на настоящем, и именно это ставит его «вне времени». Оно содержит истинное реалистическое смирение, – и оно действительно получило свое продолжение во времени. На протяжении пяти веков практически каждая заметная духовная фигура в той или иной степени была под влиянием Правила. На протяжении пяти веков Правило было наиболее известным на Западе письменным источником, помимо Библии. Оно стало ранним источником вдохновения для большинства основателей современной Европы, учителей и политических деятелей – св.Августина, Св.Ансельма, Св.Ланфранка, Св.Григория Великого, Григория VII, Св.Бонифация, принесшего христианство в Германию, а в Англии – Св.Беды Достопочтенного.
Св.Бенедикт как человек и его Правило являются для нас одной и той же сущностью, ведь мы знаем о нем и его жизни так мало достоверного, не являющегося легендой, так мало того, что не было бы связано напрямую с этим его трудом. Мы знаем его через Правило, а не через историю или легенду, хотя Св.Григорий, составивший его жизнеописание, дает нам одно сияющее озарение о его характере. Бенедикт не мог придерживаться Римских школ своего времени и избегал их, став, как писал Св.Григорий:»умышленно незнающим и мудро необразованным».
Также и как многие другие гении, жившие до и после, Бенедикт оказался способным превзойти культурные концепты своего времени, поскольку он никогда не позволял обработать свой ум или ломать свой дух идеологическим образованием.
Но, как я уже говорил, мы знаем Бенедикта через его Правило, и в глубинном смысле Правило для нас – это и есть Св.Бенедикт. Оно показывает нам его, как человека власти, но если авторитарность является свойством лидера–отца, то власть принадлежит лидеру–герою. Как говорят нам Евангелия, власть, в универсальном смысле, принадлежит Христу. Когда мы слушаем такого лидера, мы не ждем от него хорошо организованной серии блестящих сентенций. В Правиле мы обнаруживаем объединяющую силу центрального видения, и каждая его часть указывает в этот Центр.
Внутренняя согласованность Правила объясняет его долговечность. Оно не умирает, ибо достигает реальности. Другие труды также могут ее достигать, но не всегда обладают таким могущественным влиянием, и это потому, что им недостает, как мне кажется, того, чем мы можем резюмировать достижения Правила: духа реалистического состадания.
[…]
Святой Бенедикт, как об этом свидетельствует его Правило, хорошо понимал сам дух общины. Приниципы и монашеской жизни, и общины как таковой, можно свести к следующим пунктам:
– Дайте каждому участвовать в управлении.– Дайте каждому осознать, что он является уважаемым членом общества.– Особое внимание уделяйте наиболее ранимым членам общества.– Будьте деликатными, проводя реформирование.
Эти предписания крайне важны для самого обычного, естественного, уровня человеческих сообществ. Но – потому, что они выражают истину – их важность поднимается также и на уровень сверхестественный.
[…]
Однако мы не должны по–рабски имитировать его практический опыт. Героический лидер призывает своих учеников, обращаясь к ним словами поощрения, следовать за ним туда, куда он идет, и тогда ои сможет назвать их «не рабами, но друзьями» (Ин 15:15). Мы должны воссоздать его видение в терминах, соотвествующих нуждам нашего времени. У нас также есть ответственность и перед теми, кто будет следовать за нами, ведь мы также должны указывать им путь. И мы делаем это, провозглашая видение Св.Бенедикта относительно человечества, как обладающего важностью творения, призванного превзойти свои персональные ограничения с помощью общины, основанной на естественной мудрости и сверхъестесвенной вере.
о.Джон Мейн OSB