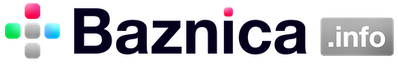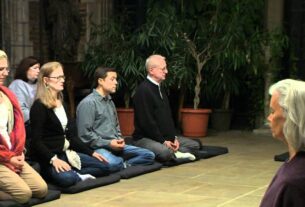В России появится единый перечень религиозных, общественных и прочих некоммерческих организаций, признанных экстремистскими. Эксперты спорят о мотивах и последствиях нововведения.
Разработанные Минюстом поправки в закон об экстремизме приняты Думой и сейчас находятся на рассмотрении Совфеда. Они уполномочивают министерство вести список объединений, членство в которых признано преступным.
Сегодня закон предписывает публиковать подобные сведения в официальной печати и на сайтах федеральных органов, регистрирующих общественные объединения.
Это могут быть как структуры Минюста, так и МВД, ведающего регистрацией народных дружин.
В итоге оставалось неясным, какое именно ведомство обязано собирать, обобщать и публиковать информацию.
Из-за такой неопределенности единого, доступного широкой публике списка экстремистских организаций до сих пор не существовало, констатирует адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев.
В РФ уже есть перечни террористических организаций (его ведет ФСБ), экстремистских материалов (доступен на сайте Минюста), запрещенных сайтов (Роскомнадзор), а также список физических и юридических лиц, признанных экстремистами, публикуемыйРосфинмониторингом.
В список могут включить не только организации, ликвидированные по суду, но и лишь подозреваемые в экстремизме.
Последний документ – ближе всего к реестру, созданием которого озаботился Минюст. Однако он предназначен скорее для банков, от которых требуют избегать сомнительных контрагентов, чем для силовых структур, занимающихся борьбой с радикалами, объясняет Селезнев.
В конце августа Минюст опубликовал «перечень ликвидированных НКО», в который вошли общественные, политические и религиозные объединения. Вероятно, он и станет прообразом реестра запрещенных организаций.
Последствия для гражданского общества
Вмешательство властей в свободу высказывания и объединения уже настолько обширно, что для запрещенных организаций приходится заводить специальный каталог, объясняет появление инициативы юрист «Агоры».
В списке Росфинмониторинга – 503 объединения. Большинство из них составляют местные отделения «Свидетелей Иеговы».
По данным минюстовского списка ликвидированных НКО, их всего 77 (локальные группы иеговистов министерство помещает под одним номером с головной организацией). Почти половина из них (35) ликвидированы начиная с 2015 года.
Появление единого перечня призвано унифицировать антиэкстремистскую практику, которая до сих пор сильно зависела от предпочтений силовиков на местах, считает адвокат.
«Например, центры по противодействию экстремизму (ЦПЭ) на Северном Кавказе, как правило, сориентированы на преследование организаций религиозно-экстремистского толка. На севере России чаще преследуют националистов. В восточных регионах… – представителей АУЕ или местных национальных меньшинств. При этом они (сотрудники ЦПЭ) могут быть “не в теме”, когда речь идет об организациях, запрещенных в других регионах. Теперь подобной специализации станет меньше. [Процесс] будет меньше зависеть от указаний конкретного руководителя в регионе», – объясняет сотрудник «Агоры».
Таким образом, зона поиска потенциальных экстремистов может расшириться.
Эксперты расходятся во мнениях, к каким последствиям приведет создание реестра.
Возможно, оно окажет положительный эффект, считает Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения.
«Определение чего-нибудь как неправильного (в данном случае, экстремистского) на первых этапах находится во власти правоприменительных ведомств (МВД, ФСБ и так далее). Теперь появляется формальный реестр с гражданским оператором, который не очень зависит от силового блока. [Это] дает тем, кого обвиняют в экстремизме, дополнительный инструмент защиты. Если будет принята установка, что всё, не входящее в реестр Минюста, – не экстремизм, это может облегчить жизнь [обвиняемым]. То, что они (их организации) не включены в реестр, может стать аргументом в их пользу», – говорит исследователь.
Директор российского отделения Amnesty International Наталья Звягина не согласна с подобной оценкой. Она подчеркивает размытость критериев, по которым граждан и организации признают экстремистами.
Закон считает таковыми не только радикалов, прибегающих или призывающих к насилию, но и всех, кто «возбуждает рознь» в обществе, «оправдывает терроризм» или обвиняет в экстремизме чиновников.
«Список хорош, когда прозрачны правила [на которых он базируется]… В данном случае в одном ряду может оказаться организация, занимавшаяся экологическим просвещением (речь идёт об организации «Башкорт», игравшей заметную роль в протестах по поводу горы Куштау), и организации, которые деструктивно воздействовали на людей и даже использовали оружие… [Список] не дает возможности ориентироваться, какие тренды запрещены, а кого можно не беспокоить. Сказать, что это как-то защитит общество – нельзя», – уверена правозащитница.
Список упростит работу сотрудникам силовых ведомств, занятых борьбой с инакомыслием, поэтому уголовных дел об экстремизме станет больше, полагает Селезнёв из «Агоры».
Сейчас мониторинг экстремистских проявлений обычно проводится вручную или с помощью обычных поисковых программ. Сотрудники центров «Э» с личных телефонов или рабочих компьютеров скроллят ленты местных активистов, пытаясь установить знакомые им признаки участия в известных им запрещенных организациях.
Внимание силовиков привлекают упоминания об экстремистских группах в интернете или намеки на принадлежность к ним в материалах дел, возбужденных по другим статьям (например, о «неуважении к власти» или «фэйковых новостях»).
«Но человеческая память не безгранична. Реестр [потенциально] позволяет все это автоматизировать», – убежден адвокат.
К тому же, раз создается реестр, возможно, будут поставлены и задачи по его пополнению, добавляет он.
Титаев считает подобные опасения преувеличенными.
«Центры “Э”, при всех их ужасающих особенностях, это довольно компактные структуры, а экстремистских организаций (или того, что признано таковыми) – много. Поэтому, если не будет создан некий классификатор, появление нормативов – “ловите столько-то тех, и столько-то этих” – выглядит сомнительным», – говорит ученый.
По мнению Титаева, сам Минюст не заинтересован в том, чтобы увеличивать список экстремистов.
«Оператор реестра обычно не отвечает за то, чтобы он максимально наполнялся. Ответственность за выявление экстремистских организаций на Минюст не возложена и никакой дополнительной мотивации делать это у него появиться не должно. В отличие от Роскомнадзора, который сам выявляет и сам ведет реестр запрещенной информации», – отмечает он.
Иного мнения придерживается правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко. Он обращает внимание на то, что при Минюсте действуют экспертные советы, выдающие заключения о том, является ли та или иная организация экстремистской (когда решается вопрос о ее регистрации или по запросу следственных органов).
«Минюст – очень заинтересованный регистратор… Сначала экспертиза пишет, что такая-то организация, ее идеология, являются экстремистскими. Потом суд признает это таковым. А затем Минюст включает организацию в список [запрещенных]… То есть одной рукой они сами определяют в экстремисты, а другой – регистрируют [судебные решения об этом] в соответствии с законом», – говорит собеседник.
Таким образом, считает эксперт, перечень экстремистских организаций может стать витриной эффективности работы Минюста по борьбе с неугодными властям общественными объединениями.
Повлияет ли документ на религиозную свободу
Опасения вызывает и название перечня, в котором в одном ряду перечислены общественные и религиозные организации.
Принятый Думой закон не содержит ограничений на деятельность религиозных диссидентов. Однако официальная «Парламентская газета» объяснила его принятие борьбой с «сектами» (религиоведы считают термин ненаучным).
Известная своими консервативными инициативами сенатор Елена Мизулина приветствовала появление реестра, отметив, что предложение о его создании сформулировано возглавляемой ею рабочей группой по защите российских граждан от мошеннических действий сект.
Отождествление в России нетрадиционных (по мнению властей) конфессий с политическими радикалами – не новость. Не менее трех десятков из 77 запрещенных НКО, находящихся в списке Минюста, представляют собой религиозные группы мусульман, православных, иеговистов, неоязычников и так далее.
В последнее время гонения на «сектантов» усилились. Большая их часть приходится на «Свидетелей Иеговы». В сентябре силовики атаковали поселение адептов Церкви последнего завета (виссарионовцев) в сибирской тайге, что может свидетельствовать о скором запрете культа, насчитывающего до 10 тыс. приверженцев.
Григорий Михнов-Вайтенко, также являющийся священником Апостольской православной церкви, считает, что новое полномочие Минюста может повредить свободе вероисповедания.
Он обращает внимание на то, что в состав экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при министерстве входит скандально известный борец с «сектантами» Александр Дворкин, до 2015 года возглавлявший орган.
«Можно предположить, что списки [экстремистских религиозных объединений] будут формироваться либо с его участием, либо с участием людей, которые к этой проблеме относятся так же», – говорит Михнов-Вайтенко.
Какими бы ни были прямые последствия публикации перечня, опрошенные правозащитники не ждут от его появления ничего хорошего.
«О чем однозначно можно говорить, так это о том, что тренд на усиление контроля за свободой слова усиливается, и это очередной шаг», – считает Станислав Селезнев.
Иван Александров
– псевдоним российского журналиста.
Источник: EurasiaNet