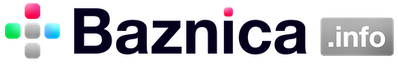Частью того, что делает Страстную неделю священной, является торжественное чтение двух евангельских страстных повествований, одного из первых трёх Евангелий в Страстное (Вербное) воскресенье, и одного из Евангелия от Иоанна каждый год в Страстную пятницу. Можно справедливо утверждать, что эти шедевры дали больше вдохновения художникам, музыкантам, поэтам и мистикам, чем любые другие разделы Нового Завета. Однако, как ни странно, такая драматическая сила заставляет чувствительных христиан беспокоиться по поводу антииудейских элементов в повествованиях о страстях. Как их можно провозглашать, не добавляя к трагической истории их неправильного использования против еврейского народа?
В прошлом году я выпустил очень длинный комментарий к повествованиям о страстях «Смерть Мессии» (2 тома, Doubleday), основным фокусом которого было позитивное послание, которое евангелисты хотели донести до своих христианских слушателей и читателей. В ней я уделил значительное внимание опасности антииудаизма в наших реакциях, но здесь я хочу сосредоточиться на эволюции антииудаизма в новозаветной мысли о страстях, чтобы помочь нам понять, как наши древнейшие религиозные предки подходили к смерти Иисуса. Поскольку мы подходим к этой Страстной неделе в тени 50-й годовщины освобождения Освенцима, я посвящаю это эссе борьбе за то, чтобы оценить истину и красоту повествований, не вызывая враждебности.
Есть два подхода, которые я решительно отвергаю. На протяжении веков и по сей день повествования о страстях читаются как буквальная история. Такое толкование порождает представление об иудейских лидерах как о коварных лжецах, которые сознательно обманули римского префекта, чтобы добиться смерти Иисуса. Использование Матфеем и Иоанном обобщающего описания этих противников Иисуса как «иудеев» слишком часто звучало без исторической восприимчивости как обращение к иудеям более поздних веков и, таким образом, способствовало продолжающейся ненависти. Сейчас такой подход решительно отвергнут в римском католицизме, независимо от того, знают об этом все католики или нет. В 1964 году Римская Папская библейская комиссия авторитетно учила, что Евангелия являются продуктом значительного повествовательного, организационного и теологического развития и поэтому не являются просто буквальным изложением служения Иисуса. На следующий год II Ватиканский собор прямо осудил мировоззрение, которое обвиняло бы в страстях без разбора всех живших тогда или живущих сегодня евреев. (Смотри «Декларацию об отношении Церкви к нехристианским религиям» [1965], № 4, принятую Собором).
Другая точка зрения, которую я считаю неприемлемой, дискредитирует евангельские повествования о страстях как почти полностью продукт христианского воображения, практически не имеющий под собой оснований. Под мантией научной объективности сторонники этой точки зрения твердо, но бездоказательно утверждают, что ранние христиане мало что знали о том, как умер Иисус, и просто придумали свои повествования на основе ветхозаветных образов. Действительно, некоторые ученые (христианского воспитания) изобразили бы их как создателей лжи именно для того, чтобы очернить евреев. Если буквалистская интерпретация повествований о страстях может породить ненависть к иудаизму, то эта интерпретация может иметь эффект изображения христианства как лживой и ненавистнической религии. Религиозно чувствительные иудеи и христиане признают, что если любая из групп наших соответствующих предков первого века будет представлена как лжецы, которые хотели уничтожить своих противников, то в продолжающемся иудейско-христианском диалоге ничего не будет достигнуто.
Внимательное изучение предполагает, что ситуация в первом веке была намного сложнее, чем позволяют такие слишком простые реконструкции. Позволь мне попытаться хотя бы частично отдать справедливость этим сложностям, описав четыре этапа в развитии новозаветного отношения к смерти Иисуса.
Первая стадия: Что произошло в 30 или 33 году н.э., когда Иисус был казнен на кресте.
Не пытаясь повторить все доказательства, собранные в книге «Смерть Мессии», можно привести очень правдоподобные доводы в пользу следующего. Иисус расстроил и даже встревожил некоторых своих единоверцев своим отношением к некоторым юридическим требованиям, своими предположениями о собственном уникальном учительском авторитете, своим общением с грешниками и своей критикой общественных практик, которые он считал бессмысленной религиозностью. Слухи о том, что он может быть Мессией (независимо от того, продвигали ли его друзья или противники), вызывали напряжение. Это дошло до крайности, когда в Иерусалиме он подверг критике и/или публично выступил с критикой процедур Храма и святилища — чувствительного вопроса в экономическом, социальном и политическом плане. Синедрион или собрание с участием первосвященника и других важных иерусалимских деятелей решил, что он является опасной и высокомерной (то есть богохульной) помехой, и организовал его арест и передачу римским властям.
То, что Иисус мог подвергнуться избиению и насилию при таком аресте и передаче, далеко не удивительно. Для римского правителя он не представлял большой угрозы. (В префектуре Пилата до этого времени время от времени происходили протесты и бунты, но не вооруженные революционные движения более раннего или более позднего периода, когда римляне посылали войска и казнили сотни людей без всякой претензии на суд). Тем не менее, Иисус был потенциально опасен, если люди считали его мессией или царем, и поэтому Пилат приказал казнить Иисуса. Историческая правдоподобность этой евангельской картины может быть подтверждена Иосифом, еврейским историком, который написал свои «Древности» в конце первого века н.э. Среди своего рассказа о правлении Пилата (включая несколько случаев, когда толпы собирались, чтобы оказать на него давление), Иосиф упоминает об обращении Пилата с Иисусом. Серьезная наука сейчас оценила бы достоверность этой ссылки следующим образом: Иисус был мудрым человеком, который совершал удивительные поступки и учил многих людей, но «Пилат осудил его на крест по обвинению первых лиц среди нас».
Из описания Иосифом того, что произошло 30 лет спустя с другим человеком по имени Иисус (сыном Анании), мы узнаем, как могло сработать такое обвинительное заключение. Этот другой Иисус возглашал послание против Иерусалима и святилища Храма. Таким поведением он спровоцировал ведущих горожан, которые, думая, что он находится под каким-то сверхъестественным воздействием, избили его и привели к римскому правителю. Последний подверг его бичеванию, но он не реагировал. (В конце концов его отпустили как маньяка, но он был убит во время осады Иерусалима.) Совокупность рассказов Иосифа показывает, насколько преувеличены утверждения о том, что суть евангельских изображений обращения с Иисусом из Назарета не может быть исторической.
Второй этап: христиане интерпретировали страсти Иисуса на фоне Священного Писания.
Ни утверждение о полной выдумке, ни непризнание творческого переосмысления не позволяет достичь справедливости в отношении того, что произошло дальше. Новый Завет настойчиво утверждает, что то, что постигло Иисуса, соответствовало тому, что было найдено в Законе и пророках. В частности, ветхозаветные портреты того, как праведники страдали от рук нечестивых, окрасили воспоминания, сохраненные последователями Иисуса.
Исторически сложилось так, что мотивы властей, настроенных против Иисуса во время его казни, наверняка были смешанными: искреннее религиозное возмущение его действиями и заявлениями, беспокойство по поводу гражданских волнений, грубая корысть, страх, что он спровоцирует вмешательство римлян, и так далее. Но теперь поиск того, что было богословски значимым, мотивировал упрощение; те, кто выступал против Иисуса, приобрели библейскую окраску нечестивцев, замышляющих против невинных. Например, в Вис. 2:17-21 нечестивые утверждают, что если праведник будет сыном Божьим, то Бог защитит его; и они решают поносить его и предать смерти. Обиды и страдания Иисуса приобретают тона гимниста из 22-го псалма и страдающего раба из Ис. 52-53. Для его последователей страдания Иисуса проливали свет на такие отрывки, которые освещали роль смерти Иисуса в Божьем плане.
Этот этап размышлений о страстях не был антииудейским, не больше, чем псалмы или другие библейские книги, которые использовали это для образности. В конце концов, праведник, его поклонники и нечестивые противники — все были евреями. И теологическое упрощение противников как нечестивых — это стандартное библейское изображение, а не гнусная христианская фальсификация. За шестьсот лет до этого не все несогласные с политикой Иеремии в отношении Иудеи были нечестивыми; но библейский рассказ изображает их именно так, упрощая их мотивы и драматизируя их действия. Действительно, некоторые из самых чувствительных слов о страданиях Иисуса находятся в 26-й главе Иеремии. Когда, имея Божью власть, Иеремия угрожал разрушением Храма, священники и весь народ услышали его, и священники и пророки потребовали его смерти. Иеремия предупредил их, что они навлекают невинную кровь на Иерусалим и его жителей.
Третий этап: Начало использования слова «иудеи» для описания одной из двух групп, выступивших против Иисуса.
Как мы можем судить по писаниям Павла, основным фактором на этом этапе было обращение язычников к следованию за Иисусом. Провозглашая Евангелие, апостол сталкивался с враждебностью со стороны властей синагоги, как он указывает в 2 Кор. 11:24: («От Иудеев в пяти случаях я получил 39 ударов плетью»), и так же поступали его обращенные язычники, согласно Деяниям. Павел сравнивал вражду, которую испытывали христиане, с той, которую претерпел Иисус, используя в 1Тим. 2:14-15 (отрывок, который, как я твердо утверждаю, является подлинным) описание «Иудеев, убивших Господа Иисуса и пророков и гонящих нас». Само по себе это может быть просто отличительной классификацией (иудеи, в отличие от римлян, которые сыграли свою роль в смерти Иисуса); но дальнейшее уподобление враждебным иудейским властям, с которым столкнулись и Павел, и его читатели, говорит нам о том, что через два десятилетия после смерти Иисуса его страдания стали источником дебатов между иудеями, не принявшими Иисуса, и иудеями и язычниками, которые приняли.
Сколько антииудаизма было задействовано в его использовании слова «иудеи» для иерусалимских властей, которые сыграли свою роль в смерти Иисуса? Этот вопрос регулируется рядом факторов. Например, насколько враждебным был опыт читателей или слушателей по отношению к евреям, которые отвергали провозглашение Иисуса? В этот ранний период христианские евреи, которые использовали такой язык, в другое время могли испытывать ностальгию по своему еврейскому наследию (как Павел в Рим. 9:3-5). То же самое нельзя сказать о христианах из язычников; более того, они могли вчитываться в такое выражение, как «иудеи, убившие Господа Иисуса», с предубеждением против евреев, проистекающим из их собственного языческого происхождения. Проявляли ли христиане такую же враждебность по отношению к римлянам, которые сыграли свою роль в смерти Иисуса? Вероятно, это зависело от того, преследовали ли римские власти христиан. Применение псалма в Деяниях 4:25-27 ставит в равное положение против Иисуса «Ирода и Понтия Пилата, язычников и народы Израиля». В евангельских изображениях издевательства над Иисусом со стороны римских солдат более жестоки, чем со стороны иудейских властей или полиции.
Четвертый этап: Использование «иудеев» для описания тех, кто причастен к смерти Иисуса в обстоятельствах, когда христиане уже не были «иудеями».
Фраза Павла «евреи, убившие Иисуса» была ограничительной для одной группы евреев; но вскоре такой язык должен был стать обобщающим, особенно учитывая, что в разных местах в разные моменты большинство среди христиан, которые использовали его, не были этнически евреями. Более деликатно, из-за отчуждения (а порой и изгнания) из синагог, некоторые этнически еврейские христиане больше не использовали термин «евреи» от себя. Похоже, что так было среди некоторых христиан, отраженных в Евангелиях от Иоанна и Матфея. Соответственно, когда важную роль в страстях Иисуса приписывали «иудеям», теперь создавалось впечатление, что в этом участвовал другой народ (отличный от нас, христиан). Когда читалось Мф. 27:25 («Весь народ говорил: «кровь Его на нас и на детях наших»»), этот другой народ брал на себя ответственность за смерть Иисуса. Действительно, ссылка на «детей» здесь и в Лк. 23:28 («Дочери Иерусалимские… о себе плачьте и о детях ваших») предполагает, что римское поражение евреев и разрушение Иерусалимского храма в 70 г. н.э. воспринимались как Божья кара за то, что Иисус был предан смерти. Неудивительно, что христиане вынесли бы такое суждение, учитывая, что Иосиф (Древности 20.8.5) дал аналогичное теологическое объяснение: Бог отвернулся от Иерусалима и позволил римлянам сжечь город из-за ненависти к нечестию, убийствам и профанации среди евреев там в 50-х и 60-х годах.
Некоторые из смягчающих факторов третьей стадии теперь исчезли, и параллель между «теми евреями», которые были враждебны Иисусу, и современными евреями, которые не приняли Иисуса и смотрят на христиан как на враждебных, стала полной. (И можно догадаться, что с другой стороны среди некоторых евреев проводилась параллель между «тем парнем», который доставлял неприятности 40 или 50 лет назад, и нынешними смутьянами, которые делали богохульные заявления о нем). Элементы этой связи можно уловить в таком отрывке, как Мф. 28:12-15, где ложь о том, что ученики украли тело Иисуса, начатая через взятку, данную первосвященниками и старейшинами, «распространилась среди иудеев до сего дня». Если на этом этапе мы наконец-то можем говорить об антииудаизме, обрати внимание, что для его развития потребовалось время, он не был присущ самим страданиям Иисуса, а отражает недружественные отношения между христианами (этнически евреями или язычниками) и евреями, которые не верили в Иисуса.
Четвертая стадия была лишь началом долгой истории; к следующему столетию христиане будут обвинять евреев в деициде (Мелито из Сардиса), а еврейские легенды (отраженные в нападках язычника Цельса на христианство) изображали Иисуса злым магом и незаконнорожденным сыном прелюбодейки. Эффект враждебных чувств стал односторонним после обращения Константина ко Христу и обретения христианами политической власти. Это стало началом трагической истории, в которой угнетение и преследование евреев продолжалось на протяжении веков, достигнув ужасающей кульминации в наше время. Многие нехристианские элементы внесли свой вклад в эту историю, особенно в нацистский период; но часто повествования о страстях читались таким образом, что разжигали ненависть к евреям.
В усилиях, направленных на то, чтобы это никогда не повторилось, то, что я утверждал выше, может сослужить хорошую службу. Признание того, что важные еврейские фигуры в Иерусалиме были враждебно настроены к Иисусу и сыграли свою роль в его смерти, само по себе не должно порождать антииудаизм, так же как и тот факт, что иерусалимские священники и пророки замышляли смерть Иеремии, может привести к такому результату. Первая христианская попытка увидеть богословское значение в смерти Иисуса, используя изображение в Писании праведника, преследуемого нечестивыми, сама по себе не имела антииудейского оттенка. Антииудаизм появился, когда смерть была истолкована через оптику существовавших тогда плохих отношений между верующими в Иисуса (часто уже не этническими евреями) и евреями, которые в него не верили.
Хорошие отношения между христианами и евреями, основанные на уважении друг к другу, — это та оптика, которая в наибольшей степени будет способствовать прочтению повествований о страстях без антииудейского эффекта. Христиане, которые ценят великое наследие иудаизма, будут чутко работать, чтобы исправить упрощение, при котором враждебно настроенные к Иисусу люди изображаются без оговорок как «евреи».
Мы, христиане, не можем отвергать или отрицать то, что произошло с Иисусом — это слишком простой эскапизм. Однако в литургическом праздновании истины и силы повествований о страстях мы должны быть столь же энергичны в провозглашении, как это сделал Папа Иоанн Павел II в годовщину Освенцима: «Никогда больше антисемитизма!».
Раймонд Е. Браун, S.S.,
был американским католическим священником, членом Сульпицианских отцов и выдающимся библейским исследователем. Частый автор публикаций, он умер в 1998 году.
Источник: Журнал Америка